Правозащитный проект «Женщина. Тюрьма. Общество» представляет
«Зона всегда болит»
История Светланы Просвириной
ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА
Светлана Просвирина
Светлана узнала, что у неё ВИЧ в середине девяностых в калининградском СИЗО. Тогда диагноз считался смертельным, лечения не было. В 2004 году её освободили из колонии с четвёртой стадией СПИДа и туберкулёзом, по сути, отпустили умирать. Её история похожа на триллер со счастливым концом. Вопреки всему она выжила и пятнадцать лет помогает людям с ВИЧ, возглавляя правозащитную организацию «Статус+».
Фото: Наталья Заманских
Из пятерых я одна выжила
О диагнозе ВИЧ я узнала в СИЗО. Это был 1996 год. К тому времени мы уже слышали слово СПИД, знали, что в Калининграде есть случаи. Но мало понимали, как он передаётся. Считали, если промыть шприц под струёй воды, даже если был вирус — он смоется. И снова шприцом пользоваться безопасно. Перед тем, как мы «сели», у нас была компания человек пять, мы вместе употребляли. От одного все и заразились. Из нас пятерых — я одна выжила.
Мы, мне кажется, были первыми, кого начали тестировать в России — тюрьмы. Потому, что наркопотребителей — в городе никого не поймаешь. А здесь, в изоляции, удобно: можно всех проверить. И брали анализы у всех поголовно. Вообще, тогда нас это даже не пугало, мы не имели информации. Ну, СПИД. Мы не понимали, какая это угроза для жизни, и что будет дальше.
Тогда процесс тестирования был длительный. Брали анализы, оправляли в Петербург. И только через полтора-два месяца мы узнавали результат. Если бы сейчас человеку сказали: «Ждите два месяца», он бы весь издёргался на нервах. У нас тогда не было знаний, и страха не было. И вот, поступили результаты. Я почему-то про себя думала: «Уж лучше СПИД, главное, чтоб не сифилис».
Мы, мне кажется, были первыми, кого начали тестировать в России — тюрьмы. Потому, что наркопотребителей — в городе никого не поймаешь. А здесь, в изоляции, удобно: можно всех проверить. И брали анализы у всех поголовно. Вообще, тогда нас это даже не пугало, мы не имели информации. Ну, СПИД. Мы не понимали, какая это угроза для жизни, и что будет дальше.
Тогда процесс тестирования был длительный. Брали анализы, оправляли в Петербург. И только через полтора-два месяца мы узнавали результат. Если бы сейчас человеку сказали: «Ждите два месяца», он бы весь издёргался на нервах. У нас тогда не было знаний, и страха не было. И вот, поступили результаты. Я почему-то про себя думала: «Уж лучше СПИД, главное, чтоб не сифилис».
Ручку оставь себе
И объявляли-то как диагноз? Сейчас смешно вспоминать. Вызывали человека «на коридор», якобы, формально некую «врачебную тайну» соблюсти. И дежурный стоит в «продоле», метрах в двадцати, и кричит: «Бумажка там лежит, видишь? Ручку видишь? Подпиши бумажку. Чего там? Почитай. Ручку оставь себе».
Там было написано, что мне грозит за распространение, какой срок, если я кого-то заражу. Вот это и было объявление диагноза. К тому времени в СИЗО были уже две мужских камеры для заражённых ВИЧ, как тогда называли — «спидозников», и одна женская.
Ты подписала бумагу, и тебе говорят: «С вещами в 45». И, надо сказать, тогда ВИЧ — это был смертный приговор. Ни лекарств, ни даже обследования не было. Мы не знали, в каком мы состоянии, даже врачи не знали. Видели, что ВИЧ/СПИД прогрессирует, а никаких тестов, какая «иммунка», вирусная нагрузка — ещё не было. Они только по нам смотрели, как на нас эти болячки нарастают, развиваются.
Там было написано, что мне грозит за распространение, какой срок, если я кого-то заражу. Вот это и было объявление диагноза. К тому времени в СИЗО были уже две мужских камеры для заражённых ВИЧ, как тогда называли — «спидозников», и одна женская.
Ты подписала бумагу, и тебе говорят: «С вещами в 45». И, надо сказать, тогда ВИЧ — это был смертный приговор. Ни лекарств, ни даже обследования не было. Мы не знали, в каком мы состоянии, даже врачи не знали. Видели, что ВИЧ/СПИД прогрессирует, а никаких тестов, какая «иммунка», вирусная нагрузка — ещё не было. Они только по нам смотрели, как на нас эти болячки нарастают, развиваются.
Мама, прости меня за всё
Вот так я первый раз столкнулась с этим. И все наши «хи-хи», «ха-ха» — лишь прикрывали истерику. Мозг сразу выставлял барьер. Самое трагичное, что сразу щёлк — и будущего нет. Раньше я что-то планировала: как выйду потом, куда пойду, а тут — как отрезало, ничего нет. Пустота, и ничего нет дальше.
Первой я написала маме: «Мама, прости меня за всё, что наделала. У меня СПИД, и я не знаю, сколько проживу дальше». И я, правда, не знала, и — никто не знал. Мама мне ответила в своём духе: «Что посеешь, то и пожнёшь». Всё. После этого на время мы с ней психологически разошлись. Потом, правда, всё изменилось. Родные стали дома даже хватать мои маникюрные наборы. Я им говорю: «Не берите моего ничего, есть риски». Но у них все барьеры и страхи по моему поводу ушли.
А тогда, в СИЗО, мы понимали, что обречены. Что все умрём через какой-то небольшой срок. Кто-то, может, уже через месяц. СПИД — это был приговор. Во всём мире люди умирали, в России — в том числе. Было понимание: то, что мы сейчас видим, — вероятно, последнее, что мы видим в жизни. В этой обречённости все мы стали ждать смерти
Первой я написала маме: «Мама, прости меня за всё, что наделала. У меня СПИД, и я не знаю, сколько проживу дальше». И я, правда, не знала, и — никто не знал. Мама мне ответила в своём духе: «Что посеешь, то и пожнёшь». Всё. После этого на время мы с ней психологически разошлись. Потом, правда, всё изменилось. Родные стали дома даже хватать мои маникюрные наборы. Я им говорю: «Не берите моего ничего, есть риски». Но у них все барьеры и страхи по моему поводу ушли.
А тогда, в СИЗО, мы понимали, что обречены. Что все умрём через какой-то небольшой срок. Кто-то, может, уже через месяц. СПИД — это был приговор. Во всём мире люди умирали, в России — в том числе. Было понимание: то, что мы сейчас видим, — вероятно, последнее, что мы видим в жизни. В этой обречённости все мы стали ждать смерти
Может, год ещё протянешь
Меня, правда, вскоре освободили. Было какое-то изменение в законодательстве — единственный раз, когда мне с этим повезло. И я пошла ко врачу, у нас тогда был медицинский кабинетик для таких, как я. Вернее, даже не кабинет, а половина перегороженная. В одной половине сидел инфекционист, во второй — гинеколог.
И я спрашиваю: «Вот у меня тут выявили, сколько мне ещё осталось?». Врач отвечает: «Ну, вам уже тридцать лет, ничего не перерождается, не регенерирует… Потому — недолго. Ну, может, год ещё протянешь». Многим так говорили. И ещё: «Вы у нас первые, по вам и посмотрим, как оно будет».
Все мы ждали смерти. Ну, не будешь же дома сидеть, ждать. Пускались во все тяжкие. Кто запивал, кто начинал колоться, кто «по девочкам», кто в секс-работу… Это ведь последние месяцы, отведённые тебе на земле. Думаю, это нормальная человеческая реакция. Говорят, были и суициды после диагноза, но среди моих знакомых — такого не было. Мы убивали себя по-другому, мягкими методами…
И я спрашиваю: «Вот у меня тут выявили, сколько мне ещё осталось?». Врач отвечает: «Ну, вам уже тридцать лет, ничего не перерождается, не регенерирует… Потому — недолго. Ну, может, год ещё протянешь». Многим так говорили. И ещё: «Вы у нас первые, по вам и посмотрим, как оно будет».
Все мы ждали смерти. Ну, не будешь же дома сидеть, ждать. Пускались во все тяжкие. Кто запивал, кто начинал колоться, кто «по девочкам», кто в секс-работу… Это ведь последние месяцы, отведённые тебе на земле. Думаю, это нормальная человеческая реакция. Говорят, были и суициды после диагноза, но среди моих знакомых — такого не было. Мы убивали себя по-другому, мягкими методами…
“
Мы ждали смерти, а она всё не приходила. И в какой-то момент устаёшь ждать. Либо что-то щёлкает, и ты начинаешь жить. Или — доразрушаешь себя совсем.
Кто смог переключиться — немало людей и сейчас живы в Калининграде с 1996 года. Кто не успел — всех мы проводили…
Я с детства хорошо рисовала, окончила художественное училище по профессии гравёр-ювелир. Даже распределили на янтарный комбинат. Но скоро ушла в декрет, а после — начала злоупотреблять веществами. А гравёр-ювелир — это прежде всего руки. А какие у меня стали руки и пальцы после наркотиков? До сих пор немного жалею, что ушла из профессии.
После освобождения работала в кафе, посуду убирала, причём не прогуливала, особо не «зависала». Мне предлагали даже обучение, встать за прилавок. Но я боялась ответственности, денег. При этом носила дневную выручку спокойно, даже мысли не было что-то украсть. Бытует мнение, что людям освободившимся — деньги нельзя доверять. Много таких мифов, мягко говоря, сильно преувеличенных. Возможно, я бы и дальше там работала и даже созрела для обучения, но однажды нас приватизировали, и вскоре всё закончилось.
Я с детства хорошо рисовала, окончила художественное училище по профессии гравёр-ювелир. Даже распределили на янтарный комбинат. Но скоро ушла в декрет, а после — начала злоупотреблять веществами. А гравёр-ювелир — это прежде всего руки. А какие у меня стали руки и пальцы после наркотиков? До сих пор немного жалею, что ушла из профессии.
После освобождения работала в кафе, посуду убирала, причём не прогуливала, особо не «зависала». Мне предлагали даже обучение, встать за прилавок. Но я боялась ответственности, денег. При этом носила дневную выручку спокойно, даже мысли не было что-то украсть. Бытует мнение, что людям освободившимся — деньги нельзя доверять. Много таких мифов, мягко говоря, сильно преувеличенных. Возможно, я бы и дальше там работала и даже созрела для обучения, но однажды нас приватизировали, и вскоре всё закончилось.
На «зону» — через Европу
Нас, ВИЧ-позитивных, повезли отдельно, человек семьдесят. В Питер, на «Арсеналку». Сложные были полтора года, всё закрытое, даже дворики — на крышах. Кроме бани никуда не водили. Когда я вышла, боялась машин — так отвыкла в заточении. А девочки сидели по три, по пять лет в этой изоляции. Мы были второй этап ВИЧ-позитивных.
А первый женский этап ушёл в середине девяностых. Им назначили Ижевск, вроде. И катали по всей России, ни один лагерь не принимал. Ведь ВИЧ-инфицированные — неясно, что с ними делать. Это у нас, в Калининграде, уже пыхнуло — немало случаев заражения, а Россия еще спала спокойно, ни сном, ни духом.
И тут привозят вагон, как тогда говорили, «спидовых». ВИЧ — тогда даже и слова такого не было в ходу. Вагон целый «спидозных» тёток, причём молодых, кипешных, даже буйных — такой улей. И их долго так катали по стране. Потом Цивильск в Чувашии согласился, но сделали им отдельный участок, отгородили. Только со временем всё это объединили.
А первый женский этап ушёл в середине девяностых. Им назначили Ижевск, вроде. И катали по всей России, ни один лагерь не принимал. Ведь ВИЧ-инфицированные — неясно, что с ними делать. Это у нас, в Калининграде, уже пыхнуло — немало случаев заражения, а Россия еще спала спокойно, ни сном, ни духом.
И тут привозят вагон, как тогда говорили, «спидовых». ВИЧ — тогда даже и слова такого не было в ходу. Вагон целый «спидозных» тёток, причём молодых, кипешных, даже буйных — такой улей. И их долго так катали по стране. Потом Цивильск в Чувашии согласился, но сделали им отдельный участок, отгородили. Только со временем всё это объединили.
Меня этапировали в мужскую «зону»
Тогда в Калининграде не было женских лагерей, нас увозили в большую Россию. Поездом, через Литву, ещё были открыты границы. Везли в «столыпинских» вагонах. Мужчин — в Альметьевск, кажется, и в колонию Андреаполь для наркопотребителей. А женщин — в Цивильск в Чувашии.
И вот нас погрузили, ходят дежурные с папками и говорят куда. Доходит до меня очередь, читают: «Просвирина — в Андреаполь». Все стали смеяться, думали, что это прикол. Я говорю: «Это же мужская зона». А они отвечают, что у них нет полномочий переписывать место назначения, раз в тюрьме так поставили. Видимо, нетрезвый сотрудник проштамповал.
И меня повезли в Андреаполь. Смеялись все вагоны. Кто-то шутил, что меня везут выводить новую породу морозо- и стрессоустойчивых наркоманов. В Андреаполе, в колонии поставили печать «Андреаполь — Калининград», и я поехала обратно. Сначала одна, потом еще присоединились женщины этапами. Неделю в Калининграде пробыла, и снова в дорогу. Я им говорю: «Проверьте сразу». В этот раз оказалось правильно: Цивильск.
Через несколько лет я снова попала в изолятор. Сидим, разговариваем. И сокамерница говорит: «Это ещё что, сейчас расскажу анекдот. Одна тут сидела, и её дёрнули, повезли в мужской лагерь». Я спрашиваю: «А когда это было?» Она: «Никогда, это анекдот такой». И тут я говорю: «Ни фига это не анекдот, это со мной всё было». Так моя история стала анекдотом и пошла дальше. Я веселила всех этим рассказом целый месяц.
И вот нас погрузили, ходят дежурные с папками и говорят куда. Доходит до меня очередь, читают: «Просвирина — в Андреаполь». Все стали смеяться, думали, что это прикол. Я говорю: «Это же мужская зона». А они отвечают, что у них нет полномочий переписывать место назначения, раз в тюрьме так поставили. Видимо, нетрезвый сотрудник проштамповал.
И меня повезли в Андреаполь. Смеялись все вагоны. Кто-то шутил, что меня везут выводить новую породу морозо- и стрессоустойчивых наркоманов. В Андреаполе, в колонии поставили печать «Андреаполь — Калининград», и я поехала обратно. Сначала одна, потом еще присоединились женщины этапами. Неделю в Калининграде пробыла, и снова в дорогу. Я им говорю: «Проверьте сразу». В этот раз оказалось правильно: Цивильск.
Через несколько лет я снова попала в изолятор. Сидим, разговариваем. И сокамерница говорит: «Это ещё что, сейчас расскажу анекдот. Одна тут сидела, и её дёрнули, повезли в мужской лагерь». Я спрашиваю: «А когда это было?» Она: «Никогда, это анекдот такой». И тут я говорю: «Ни фига это не анекдот, это со мной всё было». Так моя история стала анекдотом и пошла дальше. Я веселила всех этим рассказом целый месяц.
Светлана Просвирина рассказывает, как её этапировали в мужскую колонию
Не будем со «спидозниками» сидеть
К двухтысячным границы закрыли. Литва больше не пропускала «столыпинки», и в Калининграде вынуждены были построить женскую колонию. До того была только пара мужских. И там первое время, как рассказывали знакомые с ВИЧ, они просто «отдыхали». Их боялись сотрудники, туда никто не ходил, делай, что хочешь. Самогон, наркотики — чего только не было.
Потом их попытались перевести на строгий режим в другую колонию, но там взбунтовались заключённые: «Мы не будем со „спидозниками“ сидеть, вы что, они заразные». И их вернули к себе на зону. Потом уже, через какое-то время, убрали все изолированные «локалки». Теперь все заключённые вместе, на общих основаниях.
Потом их попытались перевести на строгий режим в другую колонию, но там взбунтовались заключённые: «Мы не будем со „спидозниками“ сидеть, вы что, они заразные». И их вернули к себе на зону. Потом уже, через какое-то время, убрали все изолированные «локалки». Теперь все заключённые вместе, на общих основаниях.
В этот раз засядешь надолго
У меня общий тюремный стаж десять лет. Несколько небольших сроков: по два года, по полтора, а последний мне дали — восемь лет. Это то, что сейчас «модно» стало, и тогда уже было — пришла подсадная девочка и попросила купить. Я её хорошо знала, попалась.
Потом милиция мне говорила: «Ты нам надоела, каждый раз освобождаешься, и вокруг тебя столько людей крутится. Судья будет наш, в этот раз засядешь надолго». Просили двенадцать лет, сменились три судьи. Только третья взяла дело, дала восемь. Я потом читала материалы, волосы дыбом вставали: как меня посадили, за что? Настолько всё было шито белыми нитками, там можно было развалить дело.
Потом милиция мне говорила: «Ты нам надоела, каждый раз освобождаешься, и вокруг тебя столько людей крутится. Судья будет наш, в этот раз засядешь надолго». Просили двенадцать лет, сменились три судьи. Только третья взяла дело, дала восемь. Я потом читала материалы, волосы дыбом вставали: как меня посадили, за что? Настолько всё было шито белыми нитками, там можно было развалить дело.
“
Организм мой выдержал четыре года и дал сбой. Болезнь прогрессировала, приложило меня конкретно. А тут ещё туберкулёз в колонии. Это была обыкновенная безалаберность.
Вернулась к нам девушка, она была «на больнице». Вспоминаю, у неё были румяные щеки, как в классических романах изображают чахоточных барышень. Из тюремной больницы сотрудники уходили на новогодние каникулы. Поэтому они решили «больничку» разгрузить, и кого было можно, кто ещё на ногах, — растасовали обратно по своим лагерям. В общем, её к нам вернули.
Потом ей стало плохо, и после каникул её снова забрали в больницу. А через месяц или полтора нас, шесть человек, после первой же «флюшки» отправили на туберкулёзную зону. Потом к нам ещё люди приезжали с нашей зоны, тоже с туберкулёзом. Ведь мы были с ослабленным иммунитетом и никак не могли спастись от заражения. Из десяти человек только у двоих не было ВИЧ. Еще и питание плохое, и недостаток прогулок на свежем воздухе сыграли свою роль.
Потом ей стало плохо, и после каникул её снова забрали в больницу. А через месяц или полтора нас, шесть человек, после первой же «флюшки» отправили на туберкулёзную зону. Потом к нам ещё люди приезжали с нашей зоны, тоже с туберкулёзом. Ведь мы были с ослабленным иммунитетом и никак не могли спастись от заражения. Из десяти человек только у двоих не было ВИЧ. Еще и питание плохое, и недостаток прогулок на свежем воздухе сыграли свою роль.
Ты — биологическая бомба
Освободилась я с «ТБ-зоны» в 2004 году. Когда совсем стало плохо, меня актировали. Не на носилках ещё, но уже под ручки вели, так я ослабла. Причём освободили из-за четвёртой стадии СПИДа, туберкулёз, как они считали, мне подлечили. Я теперь знаю, что когда иммунная система слабая — то туберкулёз на снимках практически не виден, хотя он есть. Просто иммунного ответа почти нет, вот и не видно. И с этой маленькой «иммункой» я каким-то чудом дожила до времени, когда первые лекарства от ВИЧ появились.
После 2004 года я «завязала». Потом долго ещё туберкулез лечила. Это была личная война, такой он прилипчивый. Людей, болеющих туберкулёзом, очень дискриминируют. Ещё больше, чем с ВИЧ. Психологически очень тяжело.
С началом лечения ты должен отрезать всё: и работу, если была, и весь круг общения. Плюс, тебе постоянно внушают, что ты не должен никуда выходить, ни с кем общаться. Что ты — «биологическая бомба», как только выйдешь — все вокруг заразятся. Тебе это вкладывают в голову, и жить с этим — очень тяжело.
У меня потом долго была психосоматика. Уже давно вылечившись, я обнаружила, что из-за этих постоянных запугиваний — почти не дышу. Боялась полностью дышать, так привыкла, что я «биологическая бомба». Хотя давно все тесты отрицательные. Потом меня несколько лет не снимали с учёта: «У тебя ВИЧ, всё может вернуться, ты нам всех перезаражаешь. Ты только кашлянёшь — всё вокруг «загорится».
После 2004 года я «завязала». Потом долго ещё туберкулез лечила. Это была личная война, такой он прилипчивый. Людей, болеющих туберкулёзом, очень дискриминируют. Ещё больше, чем с ВИЧ. Психологически очень тяжело.
С началом лечения ты должен отрезать всё: и работу, если была, и весь круг общения. Плюс, тебе постоянно внушают, что ты не должен никуда выходить, ни с кем общаться. Что ты — «биологическая бомба», как только выйдешь — все вокруг заразятся. Тебе это вкладывают в голову, и жить с этим — очень тяжело.
У меня потом долго была психосоматика. Уже давно вылечившись, я обнаружила, что из-за этих постоянных запугиваний — почти не дышу. Боялась полностью дышать, так привыкла, что я «биологическая бомба». Хотя давно все тесты отрицательные. Потом меня несколько лет не снимали с учёта: «У тебя ВИЧ, всё может вернуться, ты нам всех перезаражаешь. Ты только кашлянёшь — всё вокруг «загорится».
Прошла все круги ада
Сейчас, когда мы консультируем людей с туберкулёзом, я очень бережна с ними. Видимо, это надо испытать на себе, чтобы понимать: нельзя так людей накручивать и запугивать. Нужно говорить о заботе и рисках для окружающих, но не такими методами, чтоб человек дышать боялся. Меня, конечно, психологически изуродовали. Мне кажется, я до сих пор не научилась дышать полностью, это из себя не получается «выкрутить».
Дискриминация людей с туберкулёзом очень большая. Люди не знают, что две недели лечения — и ты уже практически безопасен для окружающих. Нигде об этом не говорят. Как слово «туберкулёз» возникает, сразу паника: закрыть, убрать, изолировать. Про ВИЧ-то многие не знают, а здесь ещё меньше. Я помню этот постоянный страх: всё узнают соседи, всех потащут обследовать, дом зальют хлоркой.
В конце концов я вылечилась, прошла все круги ада. Но и сейчас мне порой напоминают о прошлом. Как-то мы судились с одним медучреждением, я представляла интересы моего клиента с туберкулёзом. И первые заседания прошли в нашу пользу. Потом прихожу, а меня охрана в суд не пускает. Распоряжение главного судьи, без маски меня не пускать. Это был слив медицинской информации. Пришлось пойти в аптеку, купить маску. Тогда я поняла: столько лет прошло, я давно вылечилась, а рычаг давления, дискриминации — у них до сих пор остался.
Дискриминация людей с туберкулёзом очень большая. Люди не знают, что две недели лечения — и ты уже практически безопасен для окружающих. Нигде об этом не говорят. Как слово «туберкулёз» возникает, сразу паника: закрыть, убрать, изолировать. Про ВИЧ-то многие не знают, а здесь ещё меньше. Я помню этот постоянный страх: всё узнают соседи, всех потащут обследовать, дом зальют хлоркой.
В конце концов я вылечилась, прошла все круги ада. Но и сейчас мне порой напоминают о прошлом. Как-то мы судились с одним медучреждением, я представляла интересы моего клиента с туберкулёзом. И первые заседания прошли в нашу пользу. Потом прихожу, а меня охрана в суд не пускает. Распоряжение главного судьи, без маски меня не пускать. Это был слив медицинской информации. Пришлось пойти в аптеку, купить маску. Тогда я поняла: столько лет прошло, я давно вылечилась, а рычаг давления, дискриминации — у них до сих пор остался.
Каблуки, парик и очки
У меня много в жизни интересных случайностей. Вот как я начала заниматься активизмом? Это был год 2006, или даже 2005. Тогда ещё и терапии не было, или она только начиналась. И появилась программа Познера «Время жить». Он со съёмочной бригадой ездил по России, рассказывал про ВИЧ. В каждом регионе приглашали в эфир человека с диагнозом. Это был «гвоздь» программы, от него раскручивался весь разговор.
Я сидела в коридоре нашего СПИД-центра скромненько на лавочке, ждала какого-то специалиста. Они уже устали искать человека для передачи, у всех — «закрытые лица», никто не соглашается. Прямо в очереди ко мне подошли и предложили. И я согласилась. У меня тогда была проблема: я работу не могла найти. Сейчас вспоминать страшно: освободилась, во мне тридцать пять килограммов веса, зубы через один. Ещё мама меня накрутила, и у меня была истерика до слёз, что никто меня на работу не берёт.
Говорят: «Вот об этом и расскажешь». Они за меня очень переживали в съёмочной группе, вдруг кто-то узнает, и я пострадаю. Надели парик, купили очки, сказали приходить в одежде, которую я вообще не ношу. И я была в странной юбке, на каблуках, конечно, неузнаваемой.
Я сидела в коридоре нашего СПИД-центра скромненько на лавочке, ждала какого-то специалиста. Они уже устали искать человека для передачи, у всех — «закрытые лица», никто не соглашается. Прямо в очереди ко мне подошли и предложили. И я согласилась. У меня тогда была проблема: я работу не могла найти. Сейчас вспоминать страшно: освободилась, во мне тридцать пять килограммов веса, зубы через один. Ещё мама меня накрутила, и у меня была истерика до слёз, что никто меня на работу не берёт.
Говорят: «Вот об этом и расскажешь». Они за меня очень переживали в съёмочной группе, вдруг кто-то узнает, и я пострадаю. Надели парик, купили очки, сказали приходить в одежде, которую я вообще не ношу. И я была в странной юбке, на каблуках, конечно, неузнаваемой.
Мы умираем, а никому нет дела
Там случилось осознание. Про то, что ВИЧ-инфицированным сложно найти работу, я сказала, когда мне дали слово. А дальше — мне рот открыть не давали. В тот момент у нас были какие-то местные медицинские разборки. Хотели отобрать автономное учреждение, бывший детский садик, убрать главного врача. И на эфире этот скандал случился. Стороны стали друг друга «поливать» за это здание. Я сижу и всё это слушаю. Даже Познер слова вставить не может.
Сижу и понимаю, что они даже ни разу «ВИЧ-инфицированный» не произнесли за всю передачу, не то, что о наших проблемах рассказать — всё о своём здании. Как Познер сказал потом: «Приехали, разворошили осиное гнездо». В тот момент я очень хорошо поняла, что никому нет до нас дела. Мы все собрались в этом зале говорить о людях с ВИЧ, их нуждах, а слушаем ругань чиновников по поводу имущества.
Я твёрдо тогда осознала, что не стоит ждать, что о нас скажут. Мы сами должны говорить о себе. Это был для меня первый шаг, первая ступенька. У меня в голове включилось: «Мы умираем, и никому нет до этого дела». Включился не активизм ещё, а это стремление говорить о себе и о нас.
Сижу и понимаю, что они даже ни разу «ВИЧ-инфицированный» не произнесли за всю передачу, не то, что о наших проблемах рассказать — всё о своём здании. Как Познер сказал потом: «Приехали, разворошили осиное гнездо». В тот момент я очень хорошо поняла, что никому нет до нас дела. Мы все собрались в этом зале говорить о людях с ВИЧ, их нуждах, а слушаем ругань чиновников по поводу имущества.
Я твёрдо тогда осознала, что не стоит ждать, что о нас скажут. Мы сами должны говорить о себе. Это был для меня первый шаг, первая ступенька. У меня в голове включилось: «Мы умираем, и никому нет до этого дела». Включился не активизм ещё, а это стремление говорить о себе и о нас.
Открылась, когда дочь вышла замуж
Публично я открыла свой ВИЧ-статус, когда у нас были перебои с терапией. Чиновники всё опровергали, якобы, всё у нас хорошо, они дают лекарства, всех лечат. И я поняла, что нужно говорить от первого лица: «Я вам от первого лица говорю, я иду сейчас из центра СПИД, и мне не дали мои лекарства». Тогда ещё каждый раз было страшно открываться, это какой-то внутренний страх.
Окончательно я открылась, когда дочь вышла замуж. Уже не за себя боялась, а за неё: вдруг мой статус будет для кого-то барьером? Когда она собралась замуж, первое, что я спросила, знает ли он, что у меня ВИЧ? Она ответила, что знает, и всё нормально. Мне было важно, примет ли меня он и его семья. Сейчас у меня двое внуков.
Свадьба дочери — переломный момент. Много лет ты носишь с собой эту тайну, будто два мешка на плечах. И везде ты боишься, что это вскроется, что в тебя бросят камень.
Окончательно я открылась, когда дочь вышла замуж. Уже не за себя боялась, а за неё: вдруг мой статус будет для кого-то барьером? Когда она собралась замуж, первое, что я спросила, знает ли он, что у меня ВИЧ? Она ответила, что знает, и всё нормально. Мне было важно, примет ли меня он и его семья. Сейчас у меня двое внуков.
Свадьба дочери — переломный момент. Много лет ты носишь с собой эту тайну, будто два мешка на плечах. И везде ты боишься, что это вскроется, что в тебя бросят камень.
“
Когда эти тяжёлые мешки сбрасываешь, — не надо больше скрывать, и страх не давит — это огромное облегчение. Я перестала молчать, и ни разу не пострадала из-за своего открытого лица.
Диагноз — хорошее сито, в котором просеются твои друзья. Кто был лишним — уйдёт, настоящие друзья — останутся. Ты для них не изменилась, ты тот же человек. ВИЧ — одна из многих болезней, ты — не глупее, не хуже, не грязнее других. Тем, кто тебя принял, — ты можешь ещё больше доверять. Но им, как и тебе, тоже нередко нужно время.
У меня стало больше поддержки. После передачи пишут: «Мы видели, молодец». И из тюрем особенно: «Светка, держись!» Им там очень важно, когда о них говорят. Это всё параллельно шло, перебои и свадьба дочери. Так звёзды сошлись.
У меня стало больше поддержки. После передачи пишут: «Мы видели, молодец». И из тюрем особенно: «Светка, держись!» Им там очень важно, когда о них говорят. Это всё параллельно шло, перебои и свадьба дочери. Так звёзды сошлись.
«Зона» — всегда болит
Вообще, интересно оглядываться назад. Всё из каких-то вех состоит, как чётки. Для каждого важного события — свой шарик. И он даёт путь к следующему, от него отталкиваешься, и приходишь к тому, что сейчас.
А «зона» — это всегда болит. Болит и не отпускает. Как не хочешь забыть, она остается с тобой навсегда. У меня был этап: «Я перевернула эту страницу, всё, забыли, идём дальше». Но, не получилось перевернуть. Люди оттуда постоянно стучатся, ждут помощи. Не могу им не открыть.
Смирилась — эта тема со мной. По крайней мере, до того момента идеалистического, когда никто оттуда не напишет, не позвонит. Когда никого не будут ущемлять, всех — хорошо лечить. Больных — отпускать, а женщины смогут рожать на свободе и не разлучаться с детьми. Но годы идут, а звонков меньше не становится.
А «зона» — это всегда болит. Болит и не отпускает. Как не хочешь забыть, она остается с тобой навсегда. У меня был этап: «Я перевернула эту страницу, всё, забыли, идём дальше». Но, не получилось перевернуть. Люди оттуда постоянно стучатся, ждут помощи. Не могу им не открыть.
Смирилась — эта тема со мной. По крайней мере, до того момента идеалистического, когда никто оттуда не напишет, не позвонит. Когда никого не будут ущемлять, всех — хорошо лечить. Больных — отпускать, а женщины смогут рожать на свободе и не разлучаться с детьми. Но годы идут, а звонков меньше не становится.
Мы бойцовские были рыбки
Сначала была группа взаимопомощи «Перекрёсток» для людей с ВИЧ, куда я пришла в 2006 году. Она с 2000 года существовала, ребята начинали, когда ещё не было лечения. В одном году могло быть двадцать человек, а на следующий — почти никого, все умерли. Из основателей — мало, кто дожил до начала лечения. Кто-то дождался, но вскоре ушёл — я их в последний путь провожала. Только Роман в живых и остался.
С ним и ещё одной девушкой в 2008 году мы основали некоммерческую организацию «Статус+». Тогда у нас в группе уже выделился круг людей, которые хотели помогать не только себе, но и другим. Сделали организацию — стали серьёзнее. Учились, искали, что и где есть по нашей теме. Ведь организация — это ответственность за людей, которые к нам приходят, часто незнакомых.
В России тогда появилось лечение от ВИЧ, но никто толком не понимал, что от него ждать. А мы уже к этому времени на нескольких тренингах побывали, обучились, и стали важным источником информации в городе. Поэтому люди активно к нам шли. Те, кому мы тогда помогли, — сейчас сами помогают другим.
Это было хорошее время — такое сплочение. Мы понимали, что одному проблему часто сложно решить, а вместе — многое по силам. С самого начала мы такие бойцовские были рыбки, ничего не боялись.
Обратилась как-то девушка по поводу семейного насилия. Мы погрузились в три машины и поехали «разговаривать». В группе ребята крепкие были, здоровые, никогда не скажешь, что у них ВИЧ. Когда мы заявились к ним домой, надо было видеть лицо сожителя этой девушки. Мы его предупредили, что в следующий раз разговорами не ограничится. Больше жалоб не было.
С ним и ещё одной девушкой в 2008 году мы основали некоммерческую организацию «Статус+». Тогда у нас в группе уже выделился круг людей, которые хотели помогать не только себе, но и другим. Сделали организацию — стали серьёзнее. Учились, искали, что и где есть по нашей теме. Ведь организация — это ответственность за людей, которые к нам приходят, часто незнакомых.
В России тогда появилось лечение от ВИЧ, но никто толком не понимал, что от него ждать. А мы уже к этому времени на нескольких тренингах побывали, обучились, и стали важным источником информации в городе. Поэтому люди активно к нам шли. Те, кому мы тогда помогли, — сейчас сами помогают другим.
Это было хорошее время — такое сплочение. Мы понимали, что одному проблему часто сложно решить, а вместе — многое по силам. С самого начала мы такие бойцовские были рыбки, ничего не боялись.
Обратилась как-то девушка по поводу семейного насилия. Мы погрузились в три машины и поехали «разговаривать». В группе ребята крепкие были, здоровые, никогда не скажешь, что у них ВИЧ. Когда мы заявились к ним домой, надо было видеть лицо сожителя этой девушки. Мы его предупредили, что в следующий раз разговорами не ограничится. Больше жалоб не было.
Некуда отступать
Где-то с 2010 и вплоть до 2016 года были перебои с лечением в стране. И наша организация, надо сказать, была на плохом счету у государства. Ведь лечение — это наши жизни. Мы знали, за что стоим, что нет ничего ценнее. Не было страха — потому, что некуда отступать. Выходили на улицу, на пикеты, потому, что не могли докричаться, достучаться иначе.
Нам говорили: «Вы всё портите, можно же по-другому, договориться». Но мы хорошо владели информацией: где и какие торги, сколько чего закупили, сколько нужно. И мы с цифрами в руках спрашивали: «Почему так мало закупили?». Мы не просто так выходили «побузить» — никто не выходит, когда всё хорошо. Как-то пришли на «круглый стол» в футболках с тремя обезьянками: «Ничего не вижу, ничего не слышу, ничего не скажу». Это образ чиновников, которые врали, как у нас всё хорошо.
Врачи вынуждены были как-то изворачиваться: менять схемы, какие-то препараты отменять, хитрить. Мне мой врач говорит: «Что-то холестерин подскочил, давай попробуем другой препарат». А я ведь понимаю, что просто нет препарата, так уж лучше начистоту. Доверие это сильно подорвало тогда, а если нет доверия — больше риск, что человек бросит терапию.
Мы тогда пострадали финансово, нас избегали как «организацию неспокойную», которая «снова тут устроит». Со временем, к счастью, ситуация изменилась. Да и мы понимаем, что без государства не решим проблему. Сотрудничаем. Уверена, та наша борьба — была не зря. Все понимают, с нами лучше по-хорошему, не доводить до критической ситуации. Ведь мы можем и иначе. С лечением в Калининграде сейчас, в отличие от некоторых регионов, — всё неплохо, с анализами — тоже.
Нам говорили: «Вы всё портите, можно же по-другому, договориться». Но мы хорошо владели информацией: где и какие торги, сколько чего закупили, сколько нужно. И мы с цифрами в руках спрашивали: «Почему так мало закупили?». Мы не просто так выходили «побузить» — никто не выходит, когда всё хорошо. Как-то пришли на «круглый стол» в футболках с тремя обезьянками: «Ничего не вижу, ничего не слышу, ничего не скажу». Это образ чиновников, которые врали, как у нас всё хорошо.
Врачи вынуждены были как-то изворачиваться: менять схемы, какие-то препараты отменять, хитрить. Мне мой врач говорит: «Что-то холестерин подскочил, давай попробуем другой препарат». А я ведь понимаю, что просто нет препарата, так уж лучше начистоту. Доверие это сильно подорвало тогда, а если нет доверия — больше риск, что человек бросит терапию.
Мы тогда пострадали финансово, нас избегали как «организацию неспокойную», которая «снова тут устроит». Со временем, к счастью, ситуация изменилась. Да и мы понимаем, что без государства не решим проблему. Сотрудничаем. Уверена, та наша борьба — была не зря. Все понимают, с нами лучше по-хорошему, не доводить до критической ситуации. Ведь мы можем и иначе. С лечением в Калининграде сейчас, в отличие от некоторых регионов, — всё неплохо, с анализами — тоже.
Куда не сунься — тупик
Все эти годы с нами места лишения свободы, тюремные больницы, люди которые сели, освободились, некоторые снова сели. Обычно, когда освобождаются, к нам не сразу приходят. Идут, когда все сроки постановки на учёт пропущены, таблетки закончились. Когда попадают в какую-то котовасию, проблемы возникают. Это понятно: люди долго жили в изоляции, хочется отдохнуть, погулять, прийти в себя. Хотя в России это сложно — нет помощи от государства, и проблемы быстро настигают.
Полтора года назад освободилась девушка. В тюрьме познакомилась с кавалером, он ещё продолжал отбывать срок. Её ребёнок жил у тёти в деревне. У девушки главная цель — забрать сына себе. А у неё — нет прописки, ей некуда идти вообще. Попробовала в социальный дом, чтобы временную регистрацию получить. Продержалась три дня, ушла — сложно после колонии в режимном учреждении.
Пошла на биржу труда — там нужна прописка. На регистрацию денег нет. Материальную помощь от области без прописки не получить. Даже нет денег, чтобы к ребёнку поехать. Хорошо хоть на лечение смогли её поставить, с этим тоже без регистрации сложно.
Полтора года назад освободилась девушка. В тюрьме познакомилась с кавалером, он ещё продолжал отбывать срок. Её ребёнок жил у тёти в деревне. У девушки главная цель — забрать сына себе. А у неё — нет прописки, ей некуда идти вообще. Попробовала в социальный дом, чтобы временную регистрацию получить. Продержалась три дня, ушла — сложно после колонии в режимном учреждении.
Пошла на биржу труда — там нужна прописка. На регистрацию денег нет. Материальную помощь от области без прописки не получить. Даже нет денег, чтобы к ребёнку поехать. Хорошо хоть на лечение смогли её поставить, с этим тоже без регистрации сложно.
“
И вот, освободился человек — а жить как? Ничего не сделать. Куда не сунься — тупик, словно забор вокруг неё. И это — типичный освободившийся человек в России.
Чудом первые деньги заработала, купила игрушек и поехала к сыну. Удалось ребёнка забрать, только когда вышла замуж. Поехала в тюрьму, расписалась, муж прописал её. Теперь она от него зависима, он всем рулит. Сколько она всего за это время пережила — и везде лбом о стену. Я бы уже давно сошла с дистанции…
За пятнадцать лет мало изменилось
Вот несколько свежих случаев, которые показывают ужас тюремной и судебной системы. Это сейчас всё происходит, мы эти дела ведём. Я смотрю на эту дикость, когда хожу по судам, и понимаю, что за пятнадцать лет там мало что изменилось.
У женщины помимо ВИЧ третья стадия онкологии прогрессирующая, с метастазами, по женской линии. Её должны были освободить, по всем законам. А ей ничего толком не сказали про диагноз, увезли, сделали операцию в больнице. Всё вырезали, совсём всё, под корень. Я читала документы об операции, волосы на голове шевелились.
Вырезали, зашили. Она себя плохо чувствует после этого. Ей никаких обследований не проводят два года, даже врач её не осматривал. Суд уже по второму кругу пошёл. Сейчас сделали УЗИ — в печени новообразования нехорошие, и мы до сих пор не знаем всей картины. ФСИН ни в какую — она, якобы, здорова, пусть «сидит». При этом все стандарты лечения по онкологии нарушены. Всё это тянется, больная женщина мучается в тюрьме.
Осенью было дело беременной женщины. Высокая вирусная нагрузка, беременность. И они всё это тянули через суды, чтоб только её не выпускать. Первый раз она сама подавала, ей отказали. Я была уверена, что мы её вытащим: и по ВИЧ очень плохие показатели, и угроза жизни ребёнка. В моей голове не укладывается, зачем в тюрьме держать человека в таком состоянии.
На экране женщина беременная, почти падает. Она в маленькой клетке, в этом «стакане», на ней халатик трещит. Там же нет спецодежды для беременных. А судья меня в это время пытает, зачем я пришла. И из зала меня удаляет, не допустив как общественного защитника. Женщина потом писала жалобу, но они всё тянут. В общем, она в тюрьме родила. Родители отца ребёнка не знают про вирус, и непонятно, какой контроль будет за ребёнком.
У женщины помимо ВИЧ третья стадия онкологии прогрессирующая, с метастазами, по женской линии. Её должны были освободить, по всем законам. А ей ничего толком не сказали про диагноз, увезли, сделали операцию в больнице. Всё вырезали, совсём всё, под корень. Я читала документы об операции, волосы на голове шевелились.
Вырезали, зашили. Она себя плохо чувствует после этого. Ей никаких обследований не проводят два года, даже врач её не осматривал. Суд уже по второму кругу пошёл. Сейчас сделали УЗИ — в печени новообразования нехорошие, и мы до сих пор не знаем всей картины. ФСИН ни в какую — она, якобы, здорова, пусть «сидит». При этом все стандарты лечения по онкологии нарушены. Всё это тянется, больная женщина мучается в тюрьме.
Осенью было дело беременной женщины. Высокая вирусная нагрузка, беременность. И они всё это тянули через суды, чтоб только её не выпускать. Первый раз она сама подавала, ей отказали. Я была уверена, что мы её вытащим: и по ВИЧ очень плохие показатели, и угроза жизни ребёнка. В моей голове не укладывается, зачем в тюрьме держать человека в таком состоянии.
На экране женщина беременная, почти падает. Она в маленькой клетке, в этом «стакане», на ней халатик трещит. Там же нет спецодежды для беременных. А судья меня в это время пытает, зачем я пришла. И из зала меня удаляет, не допустив как общественного защитника. Женщина потом писала жалобу, но они всё тянут. В общем, она в тюрьме родила. Родители отца ребёнка не знают про вирус, и непонятно, какой контроль будет за ребёнком.
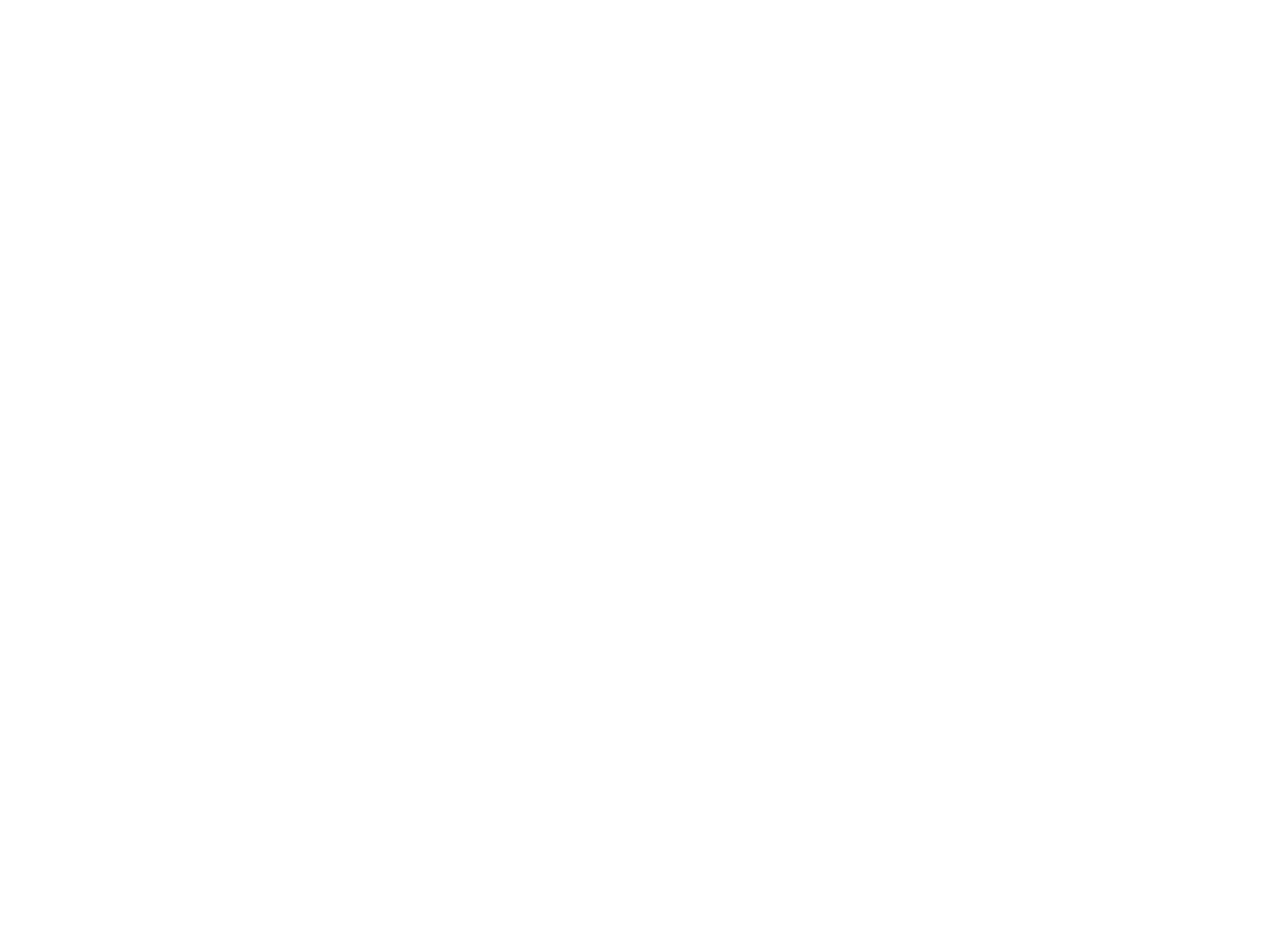
Один раз опоздаешь — и всё
Сейчас хожу на суд мужчины с ВИЧ и инсулинозависимым диабетом. У них нет даже тест-полосок на сахар в камере. И инсулин у врача. Чтобы его вывели ко врачу, приходится каждый раз звать начальника. Он просит, а ему отвечают: «Да пошёл ты, у нас обед».
Он три раза уже так падал — без инсулина. Сахар определить без плосок не может. Говорит, когда совсем плохо, почти теряет сознание, — просит вывести ко врачу. Я ему: «Ты же понимаешь, один раз опоздаешь — и всё». Ничего с этим не получается сделать, человек каждый день под угрозой жизни. Еще и тюремный инсулин ему не подходит. Какой-то полный беспросвет — эта система.
Ещё одно дело по смерти осужденной в 2018 году. Мы её вели больше года, ей отказали в освобождении. У неё был ВИЧ и не только, не старая ещё женщина. Она себя плохо чувствовала, мы «бомбили» год все инстанции. Потом медкомиссия УФСИН признала её полностью здоровой, и суд отказал. Она ровно через месяц умерла. От тех болезней, по которым её признали «здоровой»: СПИД, ассоциированные заболевания, серьёзное поражение печени. Это были прямые показания к освобождению.
Мы доведём это дело до конца, хотя суды со ФСИН всегда непростые, а по смерти — ещё более сложные. Из медицинских документов выяснилось, например, что ей прививки делали, в таком полумёртвом состоянии, когда иммунитета нет практически. И, возможно, от этого она умерла. Возили её, вероятно, в обычном «автозаке». Это для неё могло стать смертельным трюком.
Он три раза уже так падал — без инсулина. Сахар определить без плосок не может. Говорит, когда совсем плохо, почти теряет сознание, — просит вывести ко врачу. Я ему: «Ты же понимаешь, один раз опоздаешь — и всё». Ничего с этим не получается сделать, человек каждый день под угрозой жизни. Еще и тюремный инсулин ему не подходит. Какой-то полный беспросвет — эта система.
Ещё одно дело по смерти осужденной в 2018 году. Мы её вели больше года, ей отказали в освобождении. У неё был ВИЧ и не только, не старая ещё женщина. Она себя плохо чувствовала, мы «бомбили» год все инстанции. Потом медкомиссия УФСИН признала её полностью здоровой, и суд отказал. Она ровно через месяц умерла. От тех болезней, по которым её признали «здоровой»: СПИД, ассоциированные заболевания, серьёзное поражение печени. Это были прямые показания к освобождению.
Мы доведём это дело до конца, хотя суды со ФСИН всегда непростые, а по смерти — ещё более сложные. Из медицинских документов выяснилось, например, что ей прививки делали, в таком полумёртвом состоянии, когда иммунитета нет практически. И, возможно, от этого она умерла. Возили её, вероятно, в обычном «автозаке». Это для неё могло стать смертельным трюком.
Теперь все под ударом
Сегодня эпидемия вышла за пределы узких групп (наркопотребители, секс-работницы, мужчины, имеющие секс с мужчинами), теперь все под ударом. Здесь Калининград опережает многие регионы, у нас более 80 процентов случаев ВИЧ — половой путь передачи. К нам приходят самые обычные люди, которые по врачам не привыкли ходить. Жили как все: работа, семья, дети. И тут, бац, ВИЧ — страхи, неприятие, нежелание лечиться. Мы сейчас привыкаем с ними работать.
Эти «благополучные» люди с ВИЧ часто стигматизируют других: «Мы-то не такие, мы хорошие, а не как „эти“: наркоманы, зэки, проститутки, геи». Это разделение есть, оно очень чувствуется. И консультирование им нужно другое, теперь уже не «Ну, что братан? Когда ты был „в домике“?», теперь семьи, дети и прочее. Это новый вызов, очень непростой, но интересный.
Эти «благополучные» люди с ВИЧ часто стигматизируют других: «Мы-то не такие, мы хорошие, а не как „эти“: наркоманы, зэки, проститутки, геи». Это разделение есть, оно очень чувствуется. И консультирование им нужно другое, теперь уже не «Ну, что братан? Когда ты был „в домике“?», теперь семьи, дети и прочее. Это новый вызов, очень непростой, но интересный.
От бога — до головешки
Как равный консультант я проконсультировала тысячи людей. Самый минимум — два человека в день. А ведь сейчас ещё соцсети и мессенджеры, там тоже постоянно пишут. Бывает, телефон раскалённый весь день. И вопросы совершенно разные. Как перевозить через границу препараты во время отпуска? Что делать, если на работе делают прививки? Можно ли с ВИЧ в церкви прикладываться к иконе?
Это не совсем работа. Конечно, когда становишься профессионалом — понимаешь, что достоин получать деньги, ведь надо на что-то жить. Но немало осталось и альтруизма — наверно, пятьдесят на пятьдесят. В Калининграде давнишний активизм, нас очень рано ВИЧ затронул. И из поколения в поколение передавалась эта идейность. Сейчас не так много среди ВИЧ-сервисных организаций таких осталось. Многим, прежде всего, нужны деньги.
Мы для себя решили, что не будем браться за что-то просто ради денег. Мы должны видеть пользу от проекта, верить в него. Иногда сидим без денег, но я знаю: никто не убежит. Будут стоять, биться за ВИЧ-позитивных, платят за это, или нет. Это очень греет.
«Выгорание» в нашей деятельности — сплошь и рядом. Я сама несколько раз «выгорала». Сидела и говорила: «Всё, я пепел. Не трогайте меня». Обычно после большого проекта на какое-то время — мы брали паузу, переставали подавать заявки. И сотрудники меня понимали, хоть и тяжело без денег. Хорошо, у нас у многих пенсии по инвалидности, льготы. Через несколько месяцев приходили в себя и начинали по новой.
Это не совсем работа. Конечно, когда становишься профессионалом — понимаешь, что достоин получать деньги, ведь надо на что-то жить. Но немало осталось и альтруизма — наверно, пятьдесят на пятьдесят. В Калининграде давнишний активизм, нас очень рано ВИЧ затронул. И из поколения в поколение передавалась эта идейность. Сейчас не так много среди ВИЧ-сервисных организаций таких осталось. Многим, прежде всего, нужны деньги.
Мы для себя решили, что не будем браться за что-то просто ради денег. Мы должны видеть пользу от проекта, верить в него. Иногда сидим без денег, но я знаю: никто не убежит. Будут стоять, биться за ВИЧ-позитивных, платят за это, или нет. Это очень греет.
«Выгорание» в нашей деятельности — сплошь и рядом. Я сама несколько раз «выгорала». Сидела и говорила: «Всё, я пепел. Не трогайте меня». Обычно после большого проекта на какое-то время — мы брали паузу, переставали подавать заявки. И сотрудники меня понимали, хоть и тяжело без денег. Хорошо, у нас у многих пенсии по инвалидности, льготы. Через несколько месяцев приходили в себя и начинали по новой.
“
Я всем говорю: «Не мните себя богом и супергероем. Этот бог — быстро сгорит». От «я могу всё» — до «головешки» несколько месяцев, так люди «выгорают».
Мы не боги. Важно дозировать нагрузки. Хотя в нашей работе — это очень трудно. Перед новогодними праздниками звонок: у мальчика-инвалида, парализованного — умерла мама. Они вместе жили на хуторе, у обоих ВИЧ. И вот, она умерла. Парень больше суток провёл без воды и еды, без света, без туалета. Она выход телом перекрыла — ему не выбраться. Он не слышит — последствия энцефалита, номер ему не набрать на телефоне.
Как тут дозировать нагрузку? Раздаётся звонок — и надо что-то срочно делать. Ты всё бросаешь и едешь в область. Сейчас этот парень в больнице обследуется, готовим документы к оформлению в дом инвалидов. Оказалось, у него — ни паспорта, ни прописки. Здесь помогает сотрудничество с государством.
Таких случаев в нашей работе много. Вроде город небольшой, а работы полно. У нас шесть с половиной тысяч, по статистике, инфицированы. Ещё мы занимаемся туберкулёзом и гепатитом. Всех мы не можем взять на сопровождение, порой отказываем, если это не «вопрос жизни и смерти». Сколько лет работаем интенсивно, а подопечных — не убывает. Не сбывается моя мечта, что будет день — когда у всех всё будет хорошо, и никто — не позвонит…
Как тут дозировать нагрузку? Раздаётся звонок — и надо что-то срочно делать. Ты всё бросаешь и едешь в область. Сейчас этот парень в больнице обследуется, готовим документы к оформлению в дом инвалидов. Оказалось, у него — ни паспорта, ни прописки. Здесь помогает сотрудничество с государством.
Таких случаев в нашей работе много. Вроде город небольшой, а работы полно. У нас шесть с половиной тысяч, по статистике, инфицированы. Ещё мы занимаемся туберкулёзом и гепатитом. Всех мы не можем взять на сопровождение, порой отказываем, если это не «вопрос жизни и смерти». Сколько лет работаем интенсивно, а подопечных — не убывает. Не сбывается моя мечта, что будет день — когда у всех всё будет хорошо, и никто — не позвонит…

Леонид Агафонов
Тюремный эксперт
Двадцать процентов женщин в российских тюрьмах — ВИЧ-позитивные. Это настоящая эпидемия. Выявляют и дополнительные заболевания, например, гепатит или туберкулёз.
Во многом такое положение связано с тем, что вместо реабилитации наркозависимых — их сажают в тюрьмы. И среди мужчин, и среди женщин «наркотические» статьи являются самыми распространёнными. Нередко это большие срока, например, за социальный сбыт: пять, восемь, даже десять лет. Нашу героиню Светлану «подставила» другая наркопотребительница, видимо, ей пообещали, что её не посадят. Кто-то в силовых ведомствах получил «палку» в статистику за поимку «сбытчика». А человек сел надолго.
Подобная политика приводит к тому, что около сорока процентов женщин, отбывающих наказание, сидят по «наркотическим» статьям: либо профилирующим, либо сопутствующим. Итог — каждая пятая женщина ВИЧ-позитивная. Налогоплательщики содержат тюрьмы, охрану, следователей, судей. Гораздо эффективней было бы направить эти деньги на работу реабилитационных центров и программ для наркозависимых.
Вторая проблема — тюремная медицина. Это недостаточное обеспечение квалифицированным медицинским персоналом и необходимыми лекарствами. Может быть неправильно подобрано лечение, а если оно назначено правильно, не факт, что не будет перебоев с препаратами.
Когда человек находится в колонии, порой единственный специалист там — психиатр-нарколог. Инфекционист появляется нерегулярно, сдать анализы затруднительно, всё это сказывается на сроках. Система очень нерасторопная, неповоротливая. В городах ещё более-менее приемлемо, а в удалённых колониях — всё может растягиваться по времени на многие месяцы. В СИЗО препараты могут назначить одни, а в колонии их нет, или перебои. Курс прерывается, иногда на полгода или год. Обычно закупают самое дешёвое, нередко то, что даёт сильную «побочку». Дешёвый инсулин, например, многим людям с диабетом просто не подходит. Или не помогает вовсе, или много нежелательных эффектов.
Нередко заключённые расплачиваются за плачевное состояние тюремной медицины здоровьем, а иногда, к сожалению, и жизнью.
Когда я был членом ОНК Петербурга, бывали перебои с закупками лекарств, порой на год они затягивались. Обычно это было связано с отсутствием должного финансирования. Причём перебои не только по ВИЧ-терапии, но и по инсулину. Прихожу как-то в больницу, люди лежат с диабетом, у них в колонии инсулин кончился. Врач посчитал, что не хочет «сидеть» и отправил их в больницу, чтобы шоков не было. Хорошо, тогда были места. АРВТ-терапия не считается срочной, человек в кому не впадёт, но у вируса вырабатывается устойчивость, нужно менять препараты.
Считаю, тюремное население без проблем для общества можно сократить хотя бы вдвое. Многим можно избирать меру, не связанную с лишением свободы, они не опасны для общества. Сэкономленные средства лучше направить на реабилитацию и ресоциализацию, социальные проекты обеспечения работой, жильём и т. п. Люди отвыкают от жизни на свободе, на работу не устроиться (некоторые вынуждены заниматься секс-работой, это тоже группа риска по ВИЧ), они здесь никому не нужны, на них ставят клеймо «уголовника». Поэтому в России так высок риск рецидива.
Во многом такое положение связано с тем, что вместо реабилитации наркозависимых — их сажают в тюрьмы. И среди мужчин, и среди женщин «наркотические» статьи являются самыми распространёнными. Нередко это большие срока, например, за социальный сбыт: пять, восемь, даже десять лет. Нашу героиню Светлану «подставила» другая наркопотребительница, видимо, ей пообещали, что её не посадят. Кто-то в силовых ведомствах получил «палку» в статистику за поимку «сбытчика». А человек сел надолго.
Подобная политика приводит к тому, что около сорока процентов женщин, отбывающих наказание, сидят по «наркотическим» статьям: либо профилирующим, либо сопутствующим. Итог — каждая пятая женщина ВИЧ-позитивная. Налогоплательщики содержат тюрьмы, охрану, следователей, судей. Гораздо эффективней было бы направить эти деньги на работу реабилитационных центров и программ для наркозависимых.
Вторая проблема — тюремная медицина. Это недостаточное обеспечение квалифицированным медицинским персоналом и необходимыми лекарствами. Может быть неправильно подобрано лечение, а если оно назначено правильно, не факт, что не будет перебоев с препаратами.
Когда человек находится в колонии, порой единственный специалист там — психиатр-нарколог. Инфекционист появляется нерегулярно, сдать анализы затруднительно, всё это сказывается на сроках. Система очень нерасторопная, неповоротливая. В городах ещё более-менее приемлемо, а в удалённых колониях — всё может растягиваться по времени на многие месяцы. В СИЗО препараты могут назначить одни, а в колонии их нет, или перебои. Курс прерывается, иногда на полгода или год. Обычно закупают самое дешёвое, нередко то, что даёт сильную «побочку». Дешёвый инсулин, например, многим людям с диабетом просто не подходит. Или не помогает вовсе, или много нежелательных эффектов.
Нередко заключённые расплачиваются за плачевное состояние тюремной медицины здоровьем, а иногда, к сожалению, и жизнью.
Когда я был членом ОНК Петербурга, бывали перебои с закупками лекарств, порой на год они затягивались. Обычно это было связано с отсутствием должного финансирования. Причём перебои не только по ВИЧ-терапии, но и по инсулину. Прихожу как-то в больницу, люди лежат с диабетом, у них в колонии инсулин кончился. Врач посчитал, что не хочет «сидеть» и отправил их в больницу, чтобы шоков не было. Хорошо, тогда были места. АРВТ-терапия не считается срочной, человек в кому не впадёт, но у вируса вырабатывается устойчивость, нужно менять препараты.
Считаю, тюремное население без проблем для общества можно сократить хотя бы вдвое. Многим можно избирать меру, не связанную с лишением свободы, они не опасны для общества. Сэкономленные средства лучше направить на реабилитацию и ресоциализацию, социальные проекты обеспечения работой, жильём и т. п. Люди отвыкают от жизни на свободе, на работу не устроиться (некоторые вынуждены заниматься секс-работой, это тоже группа риска по ВИЧ), они здесь никому не нужны, на них ставят клеймо «уголовника». Поэтому в России так высок риск рецидива.
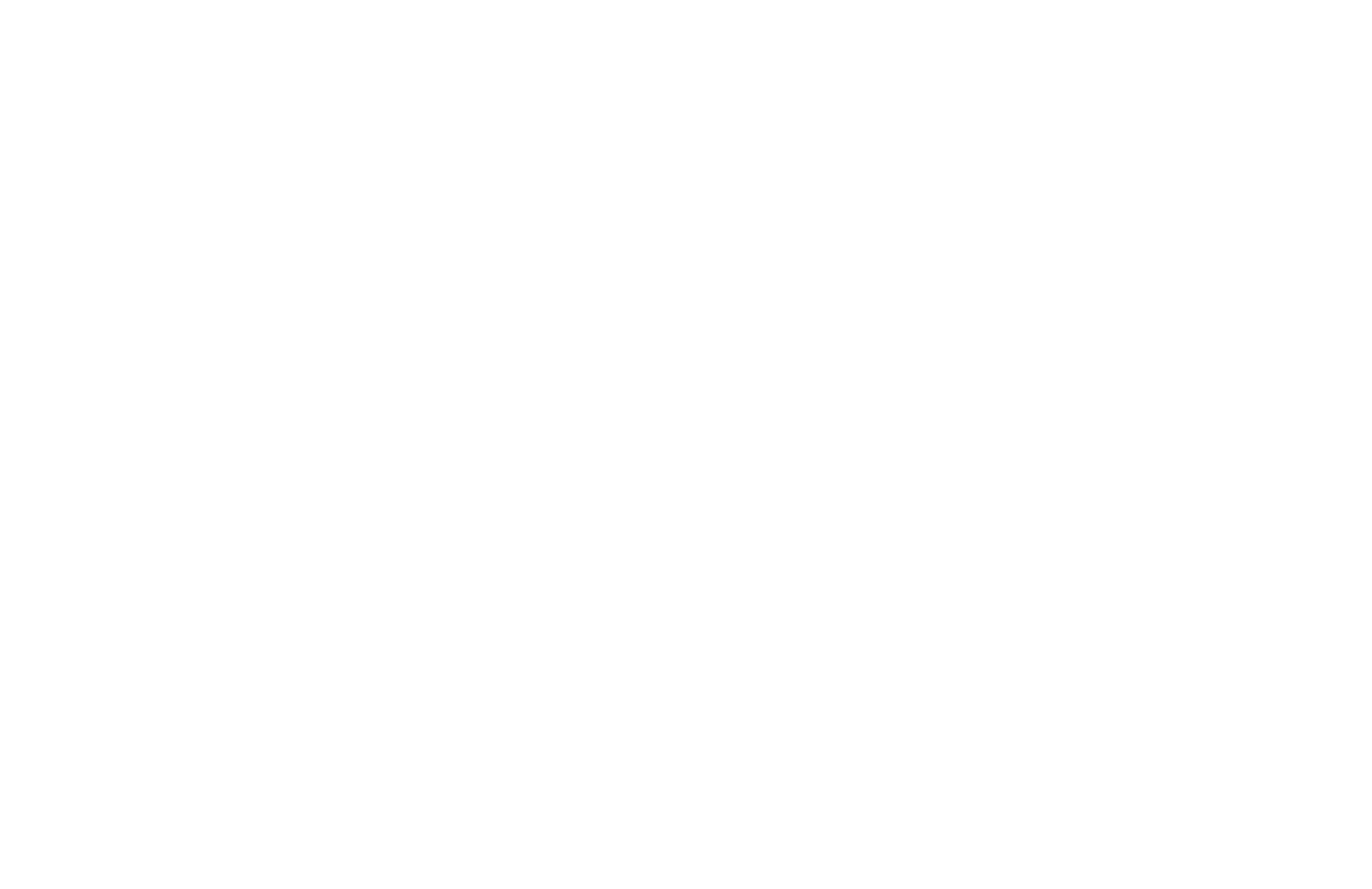
Главная страница проекта
Команда проекта
Автор
Команда
тексты, дизайн, вёрстка: Алексей Сергеев, иллюстрации: Мария Святых, редактура и перевод: Марина Квашнина, поддержка в социальных сетях: Наталия Сивохина, видеосъёмка: режиссёр Елена Демидова, администратор: Наталия Донскова.
woman.in.prison@gmail.com
